Центробанк во главе с Эльвирой Набиуллиной держит ключевую ставку на высоком уровне на протяжении длительного времени, но цены продолжают заметно расти. При этом страны Запада вводят против России новые санкции. Почему все стремительно дорожает, можно ли остановить этот процесс и что послужит сигналом к окончательному разделению мира на два закрытых блока, рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru экс-глава ЦБ Сергей Дубинин.
На что влияет ставка ЦБ
— Сергей Константинович, насколько оправданным было недавнее повышение ЦБ ставки до 18%?
— У ЦБ ограничен выбор инструментария для проведения денежно-кредитной политики. Регулятор должен устанавливать высокие ставки для борьбы с инфляцией, что называется, по законам жанра. Правда, опыт последних двух лет показывает, что это не дает того результата, на который рассчитывает Банк России. Повышение ставки на 2% действительно не приводит к существенному изменению в экономике ни в одну, ни в другую сторону. Тем более это не влияет на инфляцию, которая имеет очень глубокие корни, и ее рост провоцирует целый набор факторов.
— Что сегодня сильнее всего влияет на рост инфляции?
— Самый сильный фактор — бюджетный стимул, то есть рост расходов (в первую очередь на оборонку и социальные цели. — NEWS.ru) в федеральном бюджете.
Во-вторых, рост инфляции связан со снижением курса рубля и удорожанием импорта. Это происходит в силу сложных расчетов, которые сейчас вынуждены проводить импортеры, чтобы оплатить товары.
Еще один фактор — ограниченность рабочей силы и по количеству, и по качеству. Производительность труда не повышается, а рост зарплат стал возможен в силу роста бюджетных расходов. Это стягивает рабочую силу в определенные секторы промышленности, и затраты на внутреннее производство тоже раскручиваются.
Все эти факторы складываются в спрос и предложение. Повышается спрос на совершенно разные потребительские товары. Но продукции, которую люди готовы оплатить, поступает меньше. Естественно, растут цены.
— Другими словами, что бы ЦБ ни делал со ставкой, это не остановит инфляцию?
— Да, но в какой-то степени ограничит рост спроса.
— Как вы думаете, что решит Банк России относительно ставки?
— Думаю, повысит — чисто политически. Просто потому, что надо что-то делать.

Почему россияне стали больше тратить
— В конце 2022-го вы сказали, что в результате введения санкций образовался перекос — рост экономики при том, что спрос на потребительские товары упал. Люди перешли в режим долгосрочного пережидания кризиса и придерживают деньги. Ситуация не изменилась?
— Изменилась. Тогда была первая шоковая реакция. Как у граждан, так и у бизнеса, где в какой-то момент было падение инвестиций.
— Сейчас инвестиции пошли?
— Пошли государственные инвестиции по разным направлениям, но новые мощности создаются в меньшей степени. Кроме того, для некоторых отраслей предусмотрен ряд антикризисных мер, например льготное кредитование. Но по сути это тоже госинвестиции, так как субсидирование идет через бюджет. Это еще одна причина, почему так слабо работает изменение ключевой ставки. Государство готово платить большие деньги банкам для компенсации снижения ставок на кредиты, и цены опять растут.
— Граждане перестали придерживать сбережения?
— Да, и причин несколько. Во-первых, большие социальные выплаты. Наряду с повышением МРОТ были приняты другие меры по увеличению социальных пособий. Все это создает устойчивый поток денег для тех людей, которые раньше в лучшем случае могли позволить себе потратить все полученное на питание. С другой стороны, большие выплаты стали получать и те, кто заключил контракт с Минобороны.
Когда пошел этот денежный поток, возникло изменение в экономическом поведении граждан. Люди, получающие увеличенные социальные пособия и выплаты по контракту, стали активно приобретать товары длительного пользования, о которых раньше они даже не задумывались.
Цены начали существенно расти в 2023 году. Многие стали покупать те товары, которые будут дорожать и дальше. Так пошел покупательский бум с той стороны, откуда не ждали. При этом потребители стали прибегать и к кредитованию.

Сколько долгов набрали россияне
— Неужели при таких невероятных ставках потребительских кредитов, как сейчас, люди продолжают их брать?
— Не только люди. Как я уже сказал, возросло корпоративное кредитование (основное направление — льготное) — 80 трлн накопленных долгов. Это очень серьезно. Одновременно сильно выросли кредиты граждан — обеспеченные и необеспеченные. Порядка 40% взрослого работоспособного населения так или иначе пользуются ими. Причем половина из них имеет по два займа и более.
Льготная ипотека, за исключением ее нескольких видов, закончилась. Между тем 80% всех ипотечных программ были по льготным кредитам. Но ипотека никуда не делась и стала превосходить по объему необеспеченные кредиты, займы в микрофинансовых организациях, в oнлайн-банках, покупки в рассрочку (тот же кредит) товаров длительного пользования. Оба вида потребительских кредитов — обеспеченный и необеспеченный — сегодня в сумме составляют две трети корпоративного долга.
Все это ведет к перегреву рынка (к росту цен на активно покупаемые в кредит товары. — NEWS.ru), который вряд ли получится остановить.
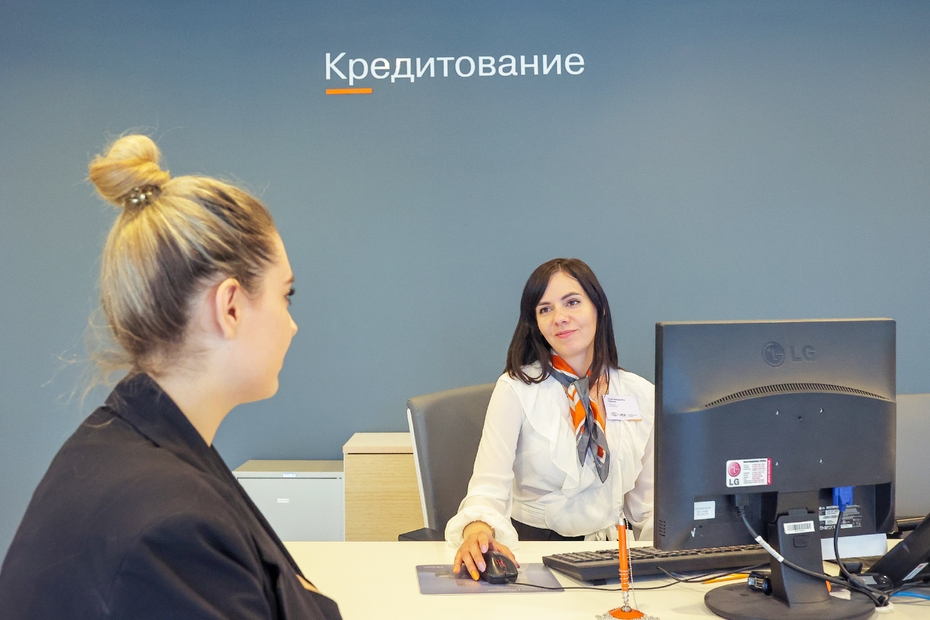
Куда вложить средства
— Но, судя по статистике, вырос и объем вкладов в банках. То есть население не только спешит потратить деньги, но и сохранить сбережения.
— Не спорю, противоположная тенденция продолжает работать. Люди пытаются защитить сбережения от инфляции, ищут более высокие процентные ставки. Часть из них даже обратилась к рынку ценных бумаг, хотя это и более рискованно. Но там тоже есть достаточно безопасный сектор облигаций, то есть фиксированной доходности. Существуют и новые продукты — облигации, которые выпускаются эмитентами, где процентная ставка увязана с ключевой ставкой ЦБ или валютным курсом рубля.
— Это какие продукты?
— Была серия указов президента РФ Владимира Путина о том, что компании, размещавшие валютные займы за рубежом (иногда это были только размещенные за границей, иногда — и внутри России), которые столкнулись с арестами и замораживанием своих активов на Западе и не имеют возможности расплачиваться по долгам, могут выпускать замещающие рублевые облигации. Их объем должен соответствовать объему долга фирм.
— Насколько они надежны для клиентов?
— Независимо от того, упадет ли стоимость акций компании, выпустившей эти облигации, человек все равно получит гарантированный доход. Думаю, что такие концерны, как «Газпром», могут рассчитывать на помощь государства в трудной ситуации.
— Какими финансовыми инструментами, которые есть на рынке, активнее всего пользуются граждане?
— Самый распространенный — депозит. У тех, у кого более крупные сбережения и кто страхуется от инфляции, вариантов больше. Кроме депозитов они трансформируют часть накоплений в инвестиции. Например, граждане покупают недвижимость, чтобы сдавать ее в аренду, или вкладываются в рынок ценных бумаг. Это характерно для жителей городов-миллионников и Краснодарского края.
Сегодня на рынке акций (в меньшей степени — облигаций) на Московской Бирже и отчасти Петербургской более половины всех сделок с акциями осуществляется через счета индивидуальных инвесторов и формирующиеся инвестиционные фонды.

Влияют ли санкции на Россию
— Сказывается ли на нас отложенный эффект санкций?
— Самое страшное — это санкции, направленные на ограничение технологических закупок и перехода к нам различных ноу-хау. Вот это надолго. Сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда хочешь не хочешь, но надо развивать свои НИОКР.
— Почему не слишком получается?
— Нам очень нужны крупные газовые турбины. Их разработки начались еще в СССР. В 1990-е Минфин регулярно выписывал деньги на то, чтобы довести экспериментальный образец до ума. Но поставить турбину в серию и установить на газоперекачивающие и электростанции так и не удалось.
Когда я работал в РАО «ЕС России» (начало 2000-х. — NEWS.ru), мы построили блок Ивановской ГРЭС специально под эту турбину. Но, как выяснилось, она была экспериментальная. Ее установили для окончательного доведения, но разработчики жаловались, что у них нет металла для лопаток, проводов, которые выдерживали бы необходимые нагрузки и т. д. А в Китае сейчас успешно эксплуатируют примерно такую же конструкцию.
Нам всегда удавалось сделать что-то лишь в оборонной сфере, в остальных ситуация гораздо грустнее. Нам сложно создать конкурентоспособную модель. В принципе, это не только наша проблема, но почти всех развивающихся стран, включая Китай.
Построить современную экономику без мирового разделения труда и пытаться все производить только у себя — это утопия. Но какие-то критические моменты, конечно, надо обозначить и развивать самостоятельно.
— Но ведь у нас сейчас закрытая экономика из-за санкций, нет?
— Нет. Несмотря на санкции и 2,5 года СВО, наша экономика остается открытой. Если сложить экспорт и импорт и посмотреть соотношение к ВВП, мы получим 20–21% сегодня и 24–25% в 2021-м. То есть некоторое снижение есть, но небольшое. Это доказывает, что мы не сможем жить без связи с мировой экономикой.
Можно структурно перераспределиться, и это разумно. Но все сделать у себя нельзя.
Есть и другая сторона. Возьмем, к примеру, газ. Столько, сколько может добыть «Газпром», нам внутри страны не нужно. Значит, надо им торговать. Аналогичные примеры можно найти и в других отраслях. Такие вещи должны быть сбалансированы и работать на мировую экономику.

Мир разделится на два блока
— Структура мировой экономики меняется. На какое место может претендовать Россия?
— На протяжении последних десятилетий происходила значительная структурная перестройка мировой экономики. Глобальный ВВП в среднем растет на 3% в год. При этом развитые государства дают порядка 2,5% роста, а страны формирующихся рынков — 4–4,5%. Но это не все развивающиеся страны, а достаточно крупные (такие как Индонезия) и группа БРИКС, где результат получается преимущественно благодаря Китаю. Но рост России составляет 1–1,5% в год. То есть мы не дотягиваем ни до мирового, ни до уровня стран формирующегося рынка.
Эту проблему надо решать быстро. Нужна структура экономики, которая бы позволила серьезно увеличить экономический рост.
— Быстрый рост Китая привел к торговым войнам с США. Это отголосок фрагментации мировой экономики. Можно обозначить контуры будущей модели, или она еще непонятна?
— В настоящий момент формируются два полюса экономического развития. Но они не изолированы, а весьма сильно пересекаются. По этой причине не стоит верить тем, кто уверяет, что вот-вот возникнут закрытые друг от друга блоки. Такой сценарий возможен лишь в одном случае: если произойдет прямое военное столкновение, скорее всего, вокруг Тайваня. Но Китай и весь западный мир, включая Японию и Южную Корею, судя по всему, осознают эту проблему и будут искать компромисс.
Думаю, мир понимает, что надо найти баланс интересов, не превращая это в жесткое противостояние. По этой причине фрагментация происходит, но она не переходит в формирование закрытых зон, которые бы жестко конфликтовали между собой.
— Другими словами, в наше время политика перевешивает экономику?
— Так было всегда. Движущими силами происходящих в экономике изменений являются политические интересы. Они не всегда внешнеполитические. Смотрите, проблемы возникли внутри Европы и США. Это поддерживает напряженность и сталкивает страны в торговых войнах.
— Получается, СВО стала катализатором обострения этой ситуации?
— Да, потому что перед странами мира встал вопрос — вы с кем? Большинство государств формирующихся рынков сказали: мы не с вами и не с ними.
Читайте также:
«У Набиуллиной есть жаропонижающее»: финомбудсмен об инфляции и росте ЖКХ
У Китая проблемы с поставками в РФ: какие товары подорожают и на сколько?
В России запускают ипотеку с привязкой к ключевой ставке: выгодно ли это









