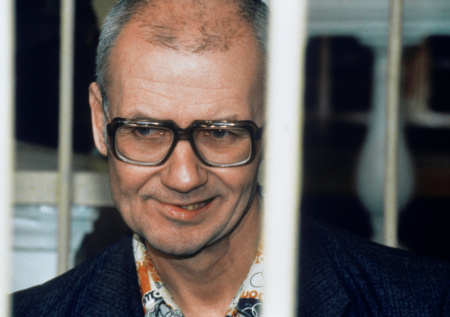22 июня 1941 года нацистская Германия и ее союзники напали на СССР и началась Великая Отечественная война — самая кровопролитная и разрушительная в нашей истории. Многие до сих пор задаются вопросом, можно ли было избежать трагедии 1941 года или обстоятельства были непреодолимы. Эту тему NEWS.ru обсудил с кандидатом исторических наук, доцентом Историко-архивного института РГГУ Иваном Белоконем.
Можно ли было избежать трагедии 22 июня 1941 года
— Мог ли СССР вовремя поднять войска и встретить нападение гитлеровцев готовой обороной?
— В отношении того, что произошло с нашей страной начиная с 22 июня 1941 года, надо эту трагедию рассматривать в контексте аналогичных трагедий, случившихся с теми странами, которые тоже оказались жертвами вероломных нападений Гитлера. Никакая из этих стран не оказалась готова к достойному отражению агрессии.
Почему это произошло? Потому что агрессор имеет возможность выбрать время для атаки. Это сродни тому, что сосед, угрожающий вам поджогом, в любую минуту поднесет к вашему дому горящую головешку. Он посмотрит, когда вы будете спать или будете в отъезде, и сделает свое черное дело. Поэтому упредить нападение никогда не возможно. Это показал опыт и Польши в 1939 году, и Франции в 1940-м, и вообще всей Европы. Исторически ситуацию с 22 июня 1941 года надо рассматривать в контексте предыдущих войн.
Что доносила разведка и верил ли ей Сталин
— А как же быть с донесениями разведки? Сталин правда не доверял им или разведка сработала недостаточно?
— Дело в том, что с донесениями разведки все было неоднозначно. Даже посмотрев донесения нашего знаменитого Рамзая (Рихарда Зорге. — NEWS.ru) из Японии, мы увидим, что они весьма противоречивы. Агенты передавали ту информацию, которую им удавалось добыть. А что там было правдой, что вражеской дезинформацией — сразу никто не мог точно определить. И дело тут не в доверии или недоверии Сталина.
Глупо говорить «вот, если бы он поверил Зорге или кому-то еще». Ну и что было бы, если поверил бы? Сама страна, по оценкам и аналитиков и самого Сталина, должна была закончить подготовку к войне лишь в 1942–1943 годах. В таких условиях удачное начало войны раньше этого срока было крайне маловероятно. Война при общей неготовности в любом случае потребовала бы колоссальных усилий и таких же жертв. Поэтому вполне понятно, что Сталин стремился как можно дольше оттянуть начало войны и требовал не поддаваться на провокации.
 Нападение Германии на Советский Союз, операция «Барбаросса», оригинальная подпись: 22.06.1941 г.
Нападение Германии на Советский Союз, операция «Барбаросса», оригинальная подпись: 22.06.1941 г.
Есть и еще один момент. Разведка ведь доносила разные даты нападения немцев. Сначала говорилось о 15 мая, потом о 15 июня, и лишь буквально за два-три дня до войны — о 22 июня. А были донесения и с более поздними датами. И в какую дату должен был верить Сталин? И как он должен был воспринимать следующие донесения, если предыдущие оказывались неверными? А ведь каждый раз поднимать войска по тревоге — миллион человек и тысячи единиц техники — по ложным данным нельзя.
Уже после войны выяснилось, что гитлеровцы действительно планировали нападение сначала на 15 мая, но отложили его из-за неполной готовности и из-за восстания в только что завоеванной Югославии. Кроме того, именно в мае немцам пришлось проводить Критскую десантную операцию, очень сложную.
Часть сил, предназначавшихся на фронт против СССР, была отвлечена на события на Балканах и в Средиземноморье. Нападение на СССР перенесли на 15 июня — к этому времени все нужные части вернулись к границе с СССР. Но некоторым требовались ремонт техники и пополнение. И поэтому нападение немцы перенесли еще на неделю — на 22 июня.
Разведка сообщала об этих датах в Москву, но повторю — каждый раз нападения не было. И понятно, что доверия к донесениям, которые раз за разом не сбываются, у Сталина не прибавлялось... Когда у вас несколько разных дат и аналитики дают разные подтверждения на каждую — как выбрать?
Мог ли СССР напасть первым
— А зачем было выбирать и ждать? Есть ведь вариант упреждающего удара. Например, сбежавший в Англию разведчик Виктор Резун (Суворов) очень много сил приложил, чтобы убедить весь мир, что СССР хотел напасть первым. Так хотел ли, мог ли?
— Когда обмусоливали эту тему — упреждения нападения — очень подробно в контексте книжек печально знаменитого Резуна-Суворова, наш замечательный историк Алексей Исаев показал, как недобросовестно Резун обращается с текстом и с данными. Но Резун выбрал скандальную подачу, и это многих заинтересовало. Это я просто к тому, что, несмотря на явную несостоятельность, такие версии о готовности СССР самому стать нападающим все еще гуляют.
 Группа выпускников общевойсковой Краснознаменной ордена Ленина Военной академии РККК им. М. В. Фрунзе
Группа выпускников общевойсковой Краснознаменной ордена Ленина Военной академии РККК им. М. В. Фрунзе
Резун подогрел эту тему, книжки были им написаны еще в 1980-е годы — я лично видел изданные для сотрудников КГБ в середине 1980-х, то есть специалисты нашей госбезопасности были знакомы с сочинениями Резуна гораздо раньше, чем их прочитал массовый читатель. И сделали вывод: книжки Резуна были написаны по заданию британских спецслужб.
Это была прямая диверсия и фальсификация, в которой человек совершенно не разбирал средств в желании обвинить Советский Союз в планах превентивного нападения на Третий рейх. Резун пытался доказать, что если бы Гитлер не напал 22 июня, то СССР напал бы на рейх то ли 3 июля, то ли 6 июля...
Однако никаких подобных документов, которые бы говорили о планах СССР напасть в конкретный день, нет в природе. Поэтому Резуну приходилось изворачиваться и заниматься подтасовками и откровенным враньем. Повторю: серьезные историки типа Исаева камня на камне не оставили от этих измышлений. Вспомните: готовности к войне СССР планировал достичь к 1943 году. О каком тогда нападении на полностью готового врага может идти речь в 1941-м?
— Но мы же помним расхожее выражение Сталина «будем воевать малой кровью на чужой территории».... И логически этот лозунг понятен: так действительно воевать выгоднее, чем начинать под ударами противника...
— Ну, конечно. Но надо понять, что знаменитое выступление Сталина перед выпускниками военных училищ, бывшее в мае 1941 года, где он произнес эту фразу, было в большой степени пропагандистским. Надо было зарядить определенным оптимизмом наших военных. Неужели надо было говорить о том, что придется воевать большой кровью и на своей территории, которая будет всячески страдать от войны!? Так что слова Сталина — это не конкретный приказ и не излишняя бравада. Это просто оптимистическая установка. Идеологическая настройка собственных военных.
Что могла изменить директива от 18 июня
— Всем интересующимся историей известна директива номер 1, которую Жуков с согласия Сталина отправил в войска ночью 22 июня. По ней войска должны были срочно приготовиться к обороне. Но есть материалы, говорящие о том, что была и более ранняя директива — от 18 июня. И вот ее часть генералов якобы не стала выполнять, тем самым подставив свои войска под удар. Был ли реальный шанс изготовиться к войне еще 18 июня?
— О директиве от 18 июня мы знаем из косвенных отчетов. Текста ее мы не знаем, в отличие от директивы номер 1 за 22 июня. Но даже если документ от 18 июня был, то, по воспоминаниям, говорилось в нем о приведении в боевую готовность только войск приграничных округов на Западе. А для ведения масштабной войны требовалось объявлять мобилизацию. И не только объявлять, но и провести ее. Что за пять дней до 22 июня было сделать нереально.
Между тем гитлеровские войска и их союзники были уже полностью отмобилизованы и готовы, и вся инфраструктура у них в тылу тоже была полностью отмобилизована на нужды войны. Так что директивой от 18 июня мы не могли решить вопрос с отражением гитлеровского нападения, даже если бы везде успели эту директиву выполнить.
 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Мобилизация. Колонны бойцов отправляются на фронт. Москва, 23 июня 1941 года
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Мобилизация. Колонны бойцов отправляются на фронт. Москва, 23 июня 1941 года
Кроме того, раз уж текста самой директивы до сих пор не обнародовано, а есть лишь косвенные отчеты о ее выполнении, то мы не можем судить, что именно в ней говорилось. Насколько она, если была на самом деле, соответствовала обстановке июня 1941 года. Чтобы серьезно говорить на эту тему, требуется написать монографию, посвященную исключительно вопросу директивы от 18 июня. Но пока в нашей исторической науке никто такой монографии не написал...
А директива номер 1 за подписью Жукова, которая была отправлена в войска уже в ночь на 22 июня и в которой говорилось об угрозе нападения и о непосредственной подготовке к отражению атак, безнадежно опоздала. Где-то ее не получили вовсе из-за обрывов линий связи, так как уже действовали немецкие диверсанты. А там, где получили, у войск было всего два-три часа на изготовку к войне.
А ведь за это время нужно не просто поднять солдат по тревоге — нужно обеспечить выдачу со складов боеприпасов, нужно подать горючее и заправить технику, нужно совершить марш на предусмотренные позиции и занять их скрытно, чтоб противник не заметил и не разбомбил. За пару часов успеть все это было нереально.
Поэтому первое серьезное сопротивление гитлеровцам и их приспешникам оказали лишь части постоянной готовности — пограничники и те гарнизоны, которые изначально размещались на укрепленных позициях. Например, гарнизон Брестской крепости.
Виновата ли «чистка» 1937 года в разгроме 1941-го
— Насколько состоятельна версия о том, что Сталин якобы истребил всех способных генералов в 1937-м, а оставшиеся в отместку устроили против него заговор?
— Нет, конечно, не было в 1941-м заговора генералов. Потому что в армии большинство генералов оказались лично обязаны Сталину своим подъемом и карьерой. И 1937 год тут скорее сыграл в плюс, чем в минус. Потому что те военные-троцкисты, что были уничтожены при раскрытии заговора Тухачевского, действительно могли принести много проблем. Это были еще революционеры, наполовину военные, а на другую половину интриганы-политики. Надо было освободить от них место для новых, молодых командиров — настоящих военных, таких, как Рокоссовский, Жуков и другие.
Не случайно Берия, став во главе НКВД, организовал масштабный пересмотр дел репрессированных и вернул в строй тех, кто не сломался и чьи дела были явно сфабрикованы. Того же Рокоссовского так вернули в армию.
 Иосиф Сталин в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Справа - маршалы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский
Иосиф Сталин в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Справа - маршалы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский
Но оставались там и люди формации Тухачевского. Например, генерал Павлов, командующий Западным военным округом, оказавшимся на направлении главного немецкого удара. Вместо приведения войск округа в боевую готовность он ездил на рыбалки и ходил в театр на любимый им спектакль «Свадьба в Малиновке».
Даже когда из Москвы пришла директива номер 1 от 22 июня, он не спешил передавать ее в войска. И в результате в самом начале войны потерял управление и обрек свой округ на разгром. Так что правильно, что его расстреляли: в тех условиях за такие дела надо было показательно наказывать. Что с Павловым и случилось.
Но проблема наша была и в том, что у нас вообще большая часть генералитета была не готова к новым условиям войны. Не умели действовать в окружениях, не умели организовывать бесперебойную связь с войсками и еще много чего. А научились лишь к 1943-му, как и предполагал Сталин с аналитиками. И перестройка военной промышленности на военные рельсы получилась тоже только к концу 1942-го. Вот тогда и пошли наши победы.
А начало войны было трагедией страшной, но в тех условиях неизбежной...
Читайте также:
Госдума переименовала День окончания Второй мировой войны
ОТР подготовило программу о героях ВОВ к годовщине Парада Победы