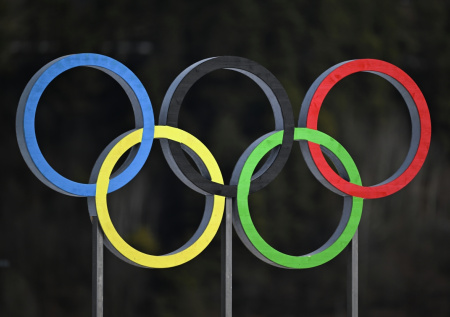С южнокорейского космодрома Наро, что на самом юге Корейского полуострова, в июне стартовала ракета-носитель «Нури», которая вывела на околоземную орбиту несколько спутников. Так Южная Корея вступила в элитный клуб космических держав, став седьмой страной мира, которая может самостоятельно изготавливать и выводить в космос спутники. И всё же без косвенной иностранной, в первую очередь российской помощи не обошлось.
День космонавтики по-корейски
Успешный старт состоялся со второй попытки. Первая имела место 21 октября 2021 года. Тогда почти всё прошло успешно, сбой возник лишь на самом последнем этапе — меньше положенного отработали двигатели третьей ступени.
Выводы были сделаны, неполадки устранены с тройным запасом прочности. Правда, и на этот раз поначалу не всё пошло гладко. Старт несколько раз переносили — то из-за сильного ветра в районе космодрома, то из-за сбоя в работе датчиков системы первой ступени.
«Нури», которую уже установили на стартовый стол, пришлось возвращать в ангар и исследовать заново. Если бы пришлось разбирать всю ракету, повторный старт пришлось бы отложить аж до осени.

Но всё же судьба решила, что достаточно испытала корейцев: все обошлось заменой датчика. В день икс на космодроме стояла хорошая солнечная погода, ветер был несильным, а вернувшаяся на стартовый стол «Нури» прошла все тесты без сучка и задоринки, хотя корейские инженеры напряженно покусывали губы и хмурились.
Памятуя о казусе прошлого года, когда некоторые СМИ поспешили преждевременно объявить «об выходе Кореи в космос», на этот раз никто не торопился с громкими заявлениями. Трансляция события шла в прямом эфире, что еще усиливало напряжение. Стартовавшая четко по расписанию «Нури» мощно пронзила небо и ушла за облака, а между тем строгий женский голос с интервалами произносил те слова, которых так ждали корейцы.
Завершение работы и отход первой ступени... Сброс крышки, прикрывающей спутники... Завершение работы и отход второй ступени... Работа третьей ступени... Отстыковка спутников от третьей ступени... Штатное расхождение спутников и начало самостоятельной работы, — вещала диктор.
Примерно через 43 минуты стало известно, что проверочный спутник, главной задачей которого было отслеживание всего процесса запуска и вывода на орбиту, вышел на связь со станцией слежения, расположенной на базе Южной Кореи Сечжон в Антарктиде. Итак, 12 лет и три месяца работы над проектом «Нури» спрессовались в 15 минут 46 секунд успешного полета ракеты.
В стране началось ликование. Не только специалисты в Центре управления полетами в Тэчжоне, но и обычные корейцы (многие дежурили в районе космодрома Наро) бросились радостно кричать, обниматься и поздравлять друг друга. Министр науки и технологий Ли Чжон Хо, которому выпала честь официально заявить об успехе, немного дрожащим от волнения и радости голосом заявил, что «старт признан успешным».

Корея вышла в космос! — провозгласил Ли.
Выступил и президент Юн Сок Ёль.
Этот успех открыл для нашей нации дорогу в космос! — заявил глава республики.
Таким образом, Южная Корея вошла в клуб космических держав мира. Помимо неё только Россия, США, Китай, Япония, Индия, а также Евросоюз умеют полностью самостоятельно создавать спутники, ракеты-носители и направлять полезную нагрузку в космос.
От «Наро» до «Нури»
Все классы космической школы корейцы прошли довольно быстро — примерно за три десятилетия.
- В 1989 году был создана главная научно-технологическая структура отрасли — институт KARI. С июля 1990-го Корея приступила к работе над созданием твердотопливной ракеты KSR-1 (Korea Solid Rocket), которая была запущена дважды — в июне и в сентябре 1993 года. Она поднялась на высоту 77 км, пролетев полторы минуты.
- В 1996 году корейцы впервые поставили цель создать собственную ракету-носитель, способную выводить спутники в космос. Началось создание уже двухступенчатой твердотопливной KSR-2. В ходе запуска в июне 1998 года она поднялась до высоты 151 км, это уже космос. Но дальше всё упиралось в ограничения по развитию ракетных технологий с использованием твердого топлива, наложенные на Корею Соединенными Штатами.
- К 2002 году Корея создала KSR-3 — жидкотопливную ракету с мощностью двигателя 13 тонн. Она смогла подняться до 43 км, но пока нельзя было мечтать о самостоятельном выводе спутников на орбиту.
Вот тогда Южная Корея приняла решение обратиться за помощью к другим странам. Сеул пытался договориться с разными ракетными державами, включая свои главных союзников — США. Но американцы не хотели помогать корейцам, подозревая их в военных ракетных амбициях, французы же запросили слишком большую сумму за помощь. Другие страны также либо отказали, либо потребовали слишком многого.
Только российские специалисты из Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева пошли навстречу Сеулу, согласившись на ту сумму, которая устраивала корейцев. В СМИ потом писали, что Корея заплатила за всё сотрудничество с РФ по космосу около $200 млн. Эту цифру сложно было официально подтвердить, но близкие к проекту источники соглашаются, что она очень близка к «итоговому чеку».

Так и родился российско-корейский проект по созданию ракеты-носителя «Наро», которая должна была вывести на орбиту Земли спутник весом 100 кг. Первая ступень (где были применены двигатели для комплекса «Ангара»), согласно договору, доставлялась уже в готовом виде из России, а вторую и третьи делали сами корейцы.
Более сотни специалистов из РФ оказывали научно-техническую помощь, консультации, Корея также получила право оставить себе модель первой ступени и получить документацию по проекту. При этом корейские эксперты проходили стажировки, набирались опыта в российских институтах, учась создавать ракеты.
С августа 2002-го по апрель 2013 года страны активно сотрудничали в космосе. Именно в этот период появился первый южнокорейский космонавт. Точнее, появилась: 8 апреля 2008 года на российской ракете-носителе «Союз ТМА-12» кореянка Ли Со Ён вместе с двумя российскими космонавтами отправилась на российский сегмент Международной космической станции, вернувшись на Землю 19 апреля. Она стала первым в истории (и до сих пор единственным) гражданином Республики Корея, побывавшим в космосе.
На самом юге Корейского полуострова, на острове Венародо в провинции Южная Чолла появился нынешний корейский Байконур — космодром Наро (одноименный с первой ракетой-носителем), который был построен при техническом руководстве россиян. Строительство завершилось в июне 2009 года. До сих пор под стеклом в музейном отделе космодрома хранится камень, привезенный с Байконура главой Роскосмоса.
После двух неудачных попыток 30 января 2013 года взлетела и вывела наконец на орбиту спутник весом 100 кг первая корейская ракета-носитель «Наро» (KSLV-1), созданная при активном содействии РФ. За время этого сотрудничества с Россией корейцы смогли многому научиться.
С 2010 года корейцы стали самостоятельно создавать собственную ракету-носитель «Нури» (KSLV-2), для которой, впрочем, активно использовался опыт и знания российских специалистов.
Попался, который кусался
Не обходилось без разных накладок: корейцы прошли и через взрывающиеся прототипы двигателей, и через урезание финансирования, и даже через скандалы. Во время новогоднего застолья 2019 года директор KARI укусил за руку подчиненного, происшествие попало в газеты.
Примечательна перемена в позиции США: еще при проекте «Наро» они пытались оказывать давление на Россию, чтобы та не помогала корейцам создавать ракету-носитель. Но затем американцы отменили одно за другим все наложенные на республику ограничения в плане развития собственных технологий.

В 2018 году прошло успешное испытание собственного 75-тонного двигателя — сердца «Нури». Четыре таких двигателя стоят на первой и один — на второй ступени. Правда, корейские разработчики до сих пор вспоминают, как они мучились в 2015–2016 годах при создании «движка». Но упорство и помощь РФ помогли преодолеть препятствия.
Здесь надо отметить, что у корейцев есть характерная черта: они часто реагируют на события преувеличенно. Порой они убиваются из-за неудач, но тут есть и обратная сторона: стоит корейцам добиться успехам, как их гордость зашкаливает. Они могут раздавать самим себе такие эпитеты, так нахваливать себя, что может показаться, что этот народ ушел в своем развитии в заоблачные высоты, а другим остается только смотреть на них снизу и восхищаться успехами Кореи.
Сделай сам?
Так и случилось после успешного запуска ракеты-носителя «Нури».
Корея самостоятельно, без чьей-либо помощи смогла создать полностью собственную ракету-носитель и своими силами запустить спутник в космос, — примерно так утверждали официальные политики и СМИ.
Эта версия доминирует и на обывательском уровне. «Мы сделали, мы смогли!» — радуются корейцы.
При этом ряд изданий смакуют высказывания одного из главных авторов проекта — директора Управления развития корейских ракет-носителей KARI Ко Чжон Хвана. Он неоднократно отмечал в интервью, что, дескать, российские специалисты якобы высокомерно говорили корейцам в самом начале: «Да что вы там понимаете в космосе?! Да разве вы сможете?!».
Сам же Ко Чжон Хван активно работал с россиянами в рамках проекта «Наро», а затем уже перешел на «Нури» и в итоге возглавил его.

Оставим на совести господина Ко приписываемые россиянам слова. Может быть, кто-то это и говорил. Хотя корейский чиновник потом неоднократно подчеркивал большую роль РФ. В любом случае возникает резонный вопрос: а как вообще зашла речь о россиянах, если, как утверждают в Сеуле, технологии были «только корейские»?
Если не брать только заголовки и заявления политических лидеров РК, а вчитаться в статьи, посвященные истории запуска «Нури», тем более если пообщаться с корейскими специалистами из сферы ракетостроения, то становится очевидно: заявления о «полностью самостоятельной работе» и «исключительно корейских технологиях» являются всё же некоторым преувеличением.
Мы с 2015 года начали полноценно работать над созданием собственного ракетного двигателя мощностью 75 тонн и уже через три года, в ноябре 2018-го провели его успешные испытания. В том, что Корея за такой короткий период смогла создать жидкотопливную ракету и освоить технологии всей системы ракеты-носителя «Нури», огромную роль сыграли пот и кровь, огромные усилия сотрудников KARI. Но при этом надо признать: вклад российских космических технологий в этот успех также велик, — признал бывший директор KARI Чо Гван Рэ в интервью газете «Чунан Ильбо».
Он добавил: «Если бы не было совместного с россиянами проекта «Наро», то мы бы не смогли разработать «Нури».
Издание же отмечает, что «Нури» можно во многом считать результатом «обратной разработки» (или реверсной инженерии) российских жидкотопливных ракет-носителей. То есть, проще говоря, корейцы разбирали российские системы, которые к ним попали тем или иным способом, смотрели, как там все устроено, понимали принцип работы и применяли к своей системе...
Эпохальная путаница
Откуда у корейцев взялись образцы для моделирования — отдельный вопрос. Тот же экс-директор KARI Чо Гван Рэ, возглавлявший проект «Наро», рассказывает практически детективную историю. Когда для испытания пускового стенда необходимо было создать модель будущей ракеты-носителя, россияне в августе 2008 года доставили модель первой ступени в Корею. Но при этом, как утверждает Чо, вместо модели двигателя поставили реальный. Прессе же было сказано, что это лишь модель, а не настоящий двигатель.
Корейцы не имели права доступа к настоящей первой ступени ракеты, но, согласно договору о сотрудничестве, получали эту самую модель ракеты-носителя. Наличие же настоящего двигателя в ней оказалось неожиданным подарком, который и помог ускорить создание корейского двигателя.
Когда был произведен третий, ставшим успешным запуск ракеты-носителя «Наро», мы забрали себе макет, доставили себе в KARI в город Тэчжон и, внимательно изучив всё, поняли: двигатель-то настоящий! Когда я впервые это понял, меня аж в жар бросило! — поведал Чо Гван Рэ.
Якобы российская сторона потом спохватилась, попыталась забрать двигатель, но корейцы указали на контракт, где было сказано, что макет они имеют право забрать себе. А что в макете оказался настоящий двигатель — это уже была не проблема корейской стороны.

Издание «Чунан Ильбо» приводит и фотографию этой модели с двигателем, на котором написано «макет-НЖ», хотя двигатель был настоящим. Всё эти «вещдоки» до сих пор хранятся на складе KARI в Тэчжоне.
Как же получилось, что россияне могли так ошибиться, сделав Сеулу нежданный подарок? Чо выдвигает свою версию.
Думаю, российской стороне не хотелось лишний раз что-то делать дополнительно. А потому на модель системы установили имевшийся у них настоящий двигатель, планируя потом его забрать. Но мы указали на контракт. Так и макет, и двигатель оказались у нас, а директор Центра Хруничева был, насколько я знаю, снят с должности. Думаю, это в некоторой степени отражает последствия той неразберихи и проблем, которые были в России после дефолта 1998 года. Но это лишь мое предположение, — отметил экс-директор KARI.
Корейские инженеры потом исследовали этот двигатель вдоль и поперек, что и помогло им быстро создать собственный 75-тонный двигатель.
С этим в принципе согласен и нынешний руководитель отдела двигателей проекта «Нури» KARI Хан Ён Мин. В последние годы он руководил процессом создания двигателя для «Нури». Хан признает, что они тщательно исследовали двигатель «Ангары», использованный в первой ступени проекта «Наро», который получили «по ошибке». Тогда корейцы изучили решения, примененные российскими коллегами.
Впрочем, Хан настаивает: хотя помощь и была оказана, но не в такой степени, чтобы говорить об «обратной разработке».
Мы тот российский двигатель так до сих пор и не разобрали на части. Конечно, я заходил внутрь носителя, изучал систему двигателя, учел общие размеры, место расположения клапанов, труб и прочего. Но тот двигатель «Ангары» мощностью свыше 200 тонн сильно отличается от наших двигателей следующего поколения по мощности и давлению. Потому вряд ли можно говорить, что имела место обратная разработка. Конечно, двигатель «Ангары» помог нам, но схемы, чертежи пришлось делать самим, — подчеркивает Хан Ён Мин.
Правда, тут надо учитывать, что Хан возглавлял группу разработчиков двигателя, а потому является весьма заинтересованным лицом.
В этом плане показательны также высказывания директора Управления развития корейских ракет-носителей KARI Ко Чжон Хвана. Он тоже участвовал в проекте «Наро», активно контактируя с российскими экспертами.
 модель южнокорейской космической ракеты «Нури»
модель южнокорейской космической ракеты «Нури»
У нас не было чьих-либо готовых чертежей. Единственное — изучали очень старые, еще изданные в 1960-х российские книги. На их основе уже общались с российскими и украинскими специалистами, получали какие-то намеки, советы, а также консультации в рамках контрактов по помощи. Но чертежи, схемы мы делали полностью сами, — настаивает Ко.
Тайны из мусорных ведер
Ко Чжон Хван признает, что ради получения информации корейцы прибегали к «самым разным способам»:
В рамках проекта «Наро» Россия привезла уже полностью готовую первую ступень, но в процессе совместной работы на неофициальном уровне мы получали помощь от российских инженеров, — говорит Ко. — Когда мы вели переговоры с россиянами официально, то от россиян всегда присутствовал человек, отвечающий за безопасность, который записывал содержание бесед. Мы также не могли заходить в ангар, где находилась сделанная в России первая ступень «Наро». Но они тоже люди, за всеми постоянно не уследишь, нельзя ходить до жилья за каждым.
На праздники корейцы приглашали и российских инженеров.
В ходе таких неформальных бесед, жаря мясо, пропуская рюмочку-другую, мы сдружились. Вот после этого они уже нам кое-то что и рассказывали, если мы спрашивали. Таким образом, в ходе разработки «Наро» мы получили много знаний, которые использовали уже при создании «Нури, — признавал Ко.
Издание «Чосон Ильбо», ссылаясь на неназванных корейских сотрудников, писало: корейцы «даже вытаскивали содержимое мусорных ведер у россиян, пытаясь получить хоть какую-то информацию».
Ко Чжон Хван заметил, что «лично в мусорных ведрах не копался», но «ради получения какой-то новой информации» они с коллегами «собирали рисунки, документы и прочие схемы, наброски, которые российские инженеры оставляли на столах после общения».
Всё это мы пытались понять, а там же всё на русском. А мы же русского не знаем, рылись в словарях, пытаясь понять, что написано, — поведал Ко в интервью телеканалу KBS.
Кстати, как-то довелось рассказать эту историю одному российскому знакомому, который работает с корейцами в другой технической сфере. Он, посмеиваясь по поводу «вытряхивания мусорных ведер», отметил: «Знакомое дело».

С корейцами надо держать ухо востро. Когда им нужны технологии, то подчас они не стесняются в методах, метут любую информацию, как пылесосы, идут на самые разные ухищрения, включая лесть, попытки войти в доверие, давление на жалость. Подчас намеренно нарушают границы дозволенного, которые мы устанавливаем, надеясь заполучить нужные технологии. Тут уже нам надо действовать пожестче, бить по рукам, когда наши партнеры их распускают, — рассказал наш собеседник.
По его словам, сами корейцы свои технологические секреты охраняют очень и очень строго.
На переговорах, когда корейцы чувствуют слабину или возможность диктовать свои условия, то пытаются выжать всё и по максимуму. Это, кстати, американцы тоже отмечали. Правда, у США с этим всё строго, они своих союзников куда лучше изучили и заранее ставят их в очень жёсткие рамки, — отметил россиянин.
При этом он признает то, что всегда утверждали и российские ракетчики: корейцы в целом «очень усидчивые, трудолюбивые специалисты, которые не щадят себя ради работы и преданы своему делу».
Со своей стороны, могу сказать: когда собирался делать репортаж «о флагмане южнокорейской электронной промышленности» — одной очень известной компании РК, мне не только не показали цех по производству, но даже запретили фотографировать в музее, где были выставлены их электронные изделия, производившиеся с 1960-х до 2010-х годов. Корейцы заявили, что «запрещено делать фото даже телевизора производства восьмидесятых годов».
А что до «случайно попавшего в Корею» ракетного двигателя, хотелось бы услышать версию российской стороны... Судя по фотографиям, он действительно был передан корейцам и, как говорилось выше, до сих пор находится на складе KARI в Тэчжоне.
Луноход Страны утренней свежести и спутники-шпионы
Судя по настрою корейских властей и специалистов, они не намерены удовлетворяться достигнутым, в планах у них превратиться в крупную космическую державу, которая могла бы на равных общаться с нынешними государствами — лидерами этой сферы.
Согласно заявлению министру науки РК Ли Чжон Хо, для подтверждения надежности ракеты-носителя «Нури» они до 2027 года намерены провести еще четыре запуска, первый состоится в первой половине следующего года. На это заложен бюджет в 687,4 млрд вон (около $530 млн). В процессе этих стартов на околоземную орбиту планируется вывести в общей сложности 13 малых и средних спутников.
Совсем скоро начнется активная фаза реализации корейской программы освоения Луны. Корейцы в августе на американской ракете-носителе планируют запустить спутник «Танури». Так, 6 июля это устройство уже вылетело из Кореи в США. «Танури» к декабрю должен выйти на орбиту Луны на высоте 100 км и в течение года обследовать спутник Земли, делая подробные фотографии поверхности и подбирая площадку для приземления корейского лунохода. Последний планируется доставить на Луну через несколько лет при помощи уже корейской ракеты-носителя следующего поколения KSLV-III. Луноход Страны утренней свежести должен начать путешествовать по поверхности Луны в 2031 году, что сделает (если всё пройдёт успешно) Южную Корею четвертой после CCCР, США и Китая страной, которая сможет направить свой аппарат на природный спутник Земли.
Что же касается ракеты-носителя следующего поколения KSLV-III, которая должна стать основной космической «рабочей лошадкой» Кореи в ближайшем будущем, то на этот проект выделено 1,9 трлн вон (около $1,5 млрд). У новой ракеты будет пять двигателей мощностью 100 тонн каждый на первой ступени и два двигателя мощностью по 10 тонн на второй ступени при возможности выводить в космос до 10 тонн полезной нагрузки. Для сравнения: запущенная 21 июня KSLV-II рассчитана только на грузы до полутора тонн.

Первый запуск KSLV-III запланирован на 2030 год, а в 2031-м эта система должна доставить на Луну корейский луноход. Вот эта ракета-носитель уже куда более серьёзная и даст возможность Корее существенно расширить космические проекты. Некоторые в Корее уже поговаривают о программах освоения других планет Солнечной системы — Марса, Венеры, хотя и понимают, что до этого придется пройти еще немалый путь.
Сеул также не скрывает, что намерен активно развивать и военное направление в использовании космоса, в том числе развитие орбитальной группировки спутников-шпионов. А также поговаривают о возможности создания на основе ракет-носителей межконтинентальных баллистических ракет.
Впрочем, космос для Кореи не только и не столько вопрос национального престижа и обеспечения военной безопасности, но и возможность зарабатывать деньги. Коммерческому направлению будет уделяться особое внимание. Корейцы намерены создать собственную навигационную систему, для чего надо выводить большое количество спутников.
Планируется также активно выйти на мировой рынок запуска спутников для других стран.
Согласно статистике, в 2010–2020 годы в мире было выведено 2663 спутника, но в ближайшие десять лет разные страны мира собираются вывести в пять раз больше — 12 510. Объем рынка запусков, согласно данным компании Fortune Business Insights, увеличится с $14,21 млрд в 2022 году до $31,9 млрд в 2029-м.
Согласно оценкам компании Morgan Stanley, мировая космическая индустрия, составлявшая в 2020 году $251 млрд, к 2040 году увеличится до $1,1 трлн. И Южная Корея нацелилась получить свою значительную долю этого растущего мирового «космического пирога» как путем запуска спутников на коммерческой основе, так и путем предоставления других услуг.
Власти РК подумывают активно привлекать в эту сферу частные компании, передавая им технологии и обеспечивая финансовую поддержку. На острове Венародо, где расположен космодром Наро, планируется создать полноценный космический кластер, где будут собраны компании отрасли. На развитие кластера до 2031 года будет потрачено 800 млрд вон ($613 млн). На острове создадут космическую промышленную зону площадью 306 тысяч квадратных метров.
Сам же космодром Наро будет расширен. Сейчас на нем расположены две крупные пусковые площадки и строится одна малая. К 2031 году на космодроме таких площадок будет в общей сложности пять — две большие и три малые.
И сможет собственных Илонов...
Кстати, частные компании будут активно привлекать в качестве партнеров уже на этапе следующих запусков «Нури».
Если мы хотим как следует развивать космическую отрасль, то без активного привлечения частных компаний, создания конкуренции между ними не обойтись, — цитирует издание «Чосон Ильбо» слова профессора Корейского аэрокосмического университета Чан Ён Гына.
Лидеры космической отрасли среди «частников» уже определились. Тот же концерн Hanwha, который отвечал за создание двигателей для ракеты-носителя «Нури», намерен до 2030 года инвестировать в космос самостоятельно или через дочерние компании несколько миллиардов долларов. Помимо двигателей компания будет работать в сфере развития спутников, систем связи и информации. Отвечавшая за координацию всего процесса сборки «Нури» компания Korea Aerospace Industries уже активно занимается военным и гражданским направлением спутников, собираясь выйти на рынок услуг по съемкам из космоса. Ведущая авиакомпания страны Korean Air, которая активно участвовала в проекте «Наро», ведет разработку двигателей для малых аппаратов, беспилотных и иных систем.

Корейцев очень впечатлила история и успех Илона Маска и его компании SpaseX. В Стране утренней свежести надеются, что со временем и у них появится такой же инновационный лидер космической сферы из рядов частного бизнеса.
Глядя на амбициозные планы корейцев, автор эти строк припомнил сказанные в 2007 году слова одного из российских специалистов, который работал с корейцами в рамках проекта «Наро».
Сейчас они учатся у нас, но учатся очень быстро, у них замечательная собственная научная и производственная база, есть передовые решения в области электроники, систем связи. Очень скоро эти наши ученики превратятся в наших конкурентов, — сказал россиянин.
Как говорится, «как в воду глядел», что, впрочем, с учетом подхода Кореи к развитию других новых отраслей было предсказуемо и неизбежно. На космическом рынке мира появляется новый игрок в лице Южной Кореи, который бросит вызов ведущим державам, включая США, Россию, Китай и ЕС.
Эксперты, правда, отмечают, что до полетов на Марс и Венеру Корее еще очень далеко. Кроме того, они хоть и создали собственную ракету-носитель «Нури», но все же без согласия США не могут выводить на орбиту тяжелые спутники. В них до сих пор используют американские комплектующие, за которыми власти США установили жесткий контроль. Потому над полной независимостью еще придется потрудиться, но начало уже положено.
Что такое «Нури»?
Проект создания ракеты-носителя «Нури» начался в марте 2010 года, на него было потрачено чуть более полутора миллиардов долларов. Ракета представляет собой трехступенчатую конструкцию общей длиной 47,2 м, максимальным диаметром 3,5 м и общим весом 200 тонн. На первой ступени размещены четыре двигателя по 75 тонн мощностью каждый, на второй — один 75-тонный двигатель, а на третьей — один 7-тонный. На орбиту выводилась модель тяжелого спутника весом 1300 кг, спутник, который отслеживал работу систем ракеты-носителя весом 162,5 кг, а также четыре научных мини-спутника весом от трех до десяти килограммов.
В производстве комплектующих для ракеты-носителя «Нури» принимали участие около трёхсот корейских компаний. Основную работу выполнили концерны Hanwha Aerospace (двигатели ракеты), Korea Aerospace Industries (общая сборка ракеты, производство топливных баков первой ступени и емкостей для окислителя) и Hyundai Heavy Industries (строительство стартовой площадки и прочей инфраструктуры). Из 370 тысяч деталей ракеты-носителя и спутников 94,1% были произведены непосредственно в Южной Корее силами корейских компаний.