Во время Первой русской революции 1905–1907 годов террор захлестнул страну. К нему прибегали абсолютно все стороны. Ультраправые черносотенцы убивали либеральных деятелей. Ультралевые террористы забрасывали бомбами полицейских. Военные и казаки без суда и следствия расстреливали подозреваемых в подрывной деятельности. Ситуация вышла из-под контроля, и 24 июля 1906 года премьер-министр Петр Столыпин впервые откровенно призвал «бороться с врагами общества». Государственная власть перешла к широкомасштабным реформам, которые должны были положить конец революционному насилию. Как удалось остановить волну террора — в материале NEWS.ru.
Как террор в Российской империи стал массовым
После уничтожения народовольческого подполья в 1880-х годах Российская империя быстро позабыла о том, что такое террор. Правда, вслед за ним общественности пришлось позабыть и о каких-либо реформах. Режим Александра III готов был вкладываться в экономическое развитие страны и колониальные завоевания в Азии, но только не в политическое развитие государства. Практически все либеральные реформы предшествующей эпохи подверглись эрозии. Земство было обезглавлено, органы муниципального управления лишены полномочий. Контроль за любой общественной деятельностью был закреплен за полицейскими и административными органами империи.
 Император Николай II
Император Николай II
Последний император Николай II быстро обесценил все надежды на либеральный реформизм, отказавшись усилить земские органы власти. В этих условиях политическое обсуждение изменений в России переместилось за границу. И там оно очень быстро приняло радикальное направление. В 1899–1900 годах будущие лидеры партии социалистов-революционеров (эсеры) пришли к выводу, что только террор способен будет пробудить общество к решительным действиям. А кроме того, запугает власть и вынудит ее к демократизации.
В феврале 1901 году эсеры убили министра народного просвещения Николая Боголепова. В апреле 1902 года от их рук погиб глава МВД Дмитрий Сипягин. Успехи революционным террористам сопутствовали и дальше. В 1903–1904 годах, еще до начала революции, от рук эсеров погибли министры, губернаторы, военные прокуроры, полицейские, надзиратели. Счет идет на десятки. При этом либеральная интеллигенция в массе своей террор одобряла.
В 1903 году Павел Милюков откровенно заявит лидеру большевиков Владимиру Ленину, что пара террористических убийств может сделать больше, чем любая массовая демонстрация. Будущий классик марксизма скептически воспринял такие доводы. Впрочем, от террора социал-демократы никогда не отказывались. Просто для них единоличные теракты имели мало смысла, в отличие от террора как оружия партизанской войны во время массового движения.
В 1905 году ситуация от теории и единоличных актов террора перейдет к массовому террористическому движению.
 В феврале 1901 году эсеры убили министра народного просвещения Николая Боголепова
В феврале 1901 году эсеры убили министра народного просвещения Николая Боголепова
Какой размах террор приобрел после 1905 года
Поскольку даже реформистки настроенные круги в Российской империи были готовы противостоять властям с оружием в руках, с началом Первой русской революции террор быстро принял общенациональный размах. Начало было положено расстрелом мирной демонстрации 9 января 1905 года — речь о так называемом Кровавом воскресенье, когда от пуль солдат погибло около 130 рабочих. Хладнокровное убийство десятков людей, невнятные заявления властей и попытки официоза обосновать стрельбу по безоружным демонстрантам привели к тому, что убийства любых представителей власти было оправдано в глазах многих, кто был в оппозиции к монархии.
Уже в 1905 году число терактов превысило отметку в несколько тысяч и продолжало расти в 1906–1907 годах. Всего за время революции 1905–1907 годов только эсеры совершат более 200 терактов. Отколовшиеся от них эсеры-максималисты — более 50. Примерно столько же терактов, сколько и и эсеры, организовали анархисты. Но на самом деле число таких акций будет в разы выше. На Боевую организацию эсеров по всем подсчетам приходится не более 5% терактов. Остальная их часть падает на местные боевые группы, которые часто вообще никак не информировали центральное руководство партии.
 Интерпретация нейросети на тему «Кровавое воскресенье»
Интерпретация нейросети на тему «Кровавое воскресенье»
Примечательная эволюция произошла с большевиками. Если до начала русской революции они весьма подозрительно относились к индивидуальному террору, то затем эта тактика становится массовым оружием социал-демократов. Благодаря наличию у них большого числа инженерных кадров, большевики становятся поставщиками наиболее опасных взрывчатых устройств для других революционных групп. 25 августа 1906 года эсеры-максималисты неудачно покушались на премьера Столыпина в его резиденции. Взрывы унесли жизни 37 человек и ещё 70 были ранены. Бомбы были для террористов изготовлены в большевистских лабораториях под руководством Леонида Красина.
По разнообразным подсчетам, от террора с 1901 по 1911 год пострадало около 17 тысяч человек. По другим данным, их число варьируется в районе 5–10 тысяч человек. К этому стоит добавить террористические действия властей и ультраправых. Речь не только о жертвах столыпинских военно-полевых судов, по приговору которых казнили, по разным данным, от 700 до 2300 человек. Число убитых без суда в результате антиеврейских погромов и действий ультраправых террористов, согласно подсчетам историков, укладывается в цифру 6–10 тысяч человек.
Европейские наблюдатели, которые оказались в России в те годы, отмечали, что размах террора со всех сторон превышал всевозможные пределы. И это в те годы, когда Италия, Британия или Франция сами переживали террористическую «эру динамита». Однако число убитых в результате терактов европейских революционеров за 1890–1910-е годы едва достигло отметки в одну сотню человек. Это даже близко не соотносилось с тем размахом, который террор имел в России.
 Интерпретация нейросети на тему Декабрьского восстания в Москве
Интерпретация нейросети на тему Декабрьского восстания в Москве
В чем была специфика террора в Российской империи начала XX века
У революционного террора были свои характерные отличия. Более половины терактов приходились на три национальные окраины Российской империи — Прибалтику, Польшу и Кавказ.
В Риге уже 13 января 1905 года в солидарность с маршем 9 января состоялся свой. И так же, как и в случае с Петербургом, он был расстрелян, что немедленно привело к массовому вооружению рабочих. Но тут к классовому аспекту примешался национальный. Местное население очень быстро начало жечь фермы и замки немецких латифундистов, владевших большинством земель в Курляндии. Уже к 1907 году в Латвии было совершено более 1400 терактов.
Не менее жесткая ситуация сложилась Литве, где местные революционеры создали отряды «лесных братьев». Интересно, что свое название они получили из-за любви местных социал-демократов к Робин Гуду. Однако кроме немецких усадеб теперь горели поместья и польских помещиков.
Террор в Польше быстро принял характер борьбы за национальную независимость. По донесениям местного английского консула Мюррея, большинство полицейских региона массово уходили из силовых органов. Дело дошло до того, что местные социалисты открыто заявляли о необходимости убить самого консула, чтобы таким образом заставить вмешаться в революцию европейские державы. 15 августа 1906 года Мюррей доносил, что из-за действий террористов в Варшаве пострадали около 200 человек.
 Интерпретация нейросети на тему террора в Латвии
Интерпретация нейросети на тему террора в Латвии
Практически вся территория Литвы, Латвии, Польши и Белоруссии превратилась в местность, где террор стал ежедневной обыденностью. Британский консул из Риги в какой-то момент даже не поверил в его размах. Но через пару недель личных разъездов доносил послу Николсону, что российские консервативные газеты не врут — теракты носят повсеместный характер. Ровно то же самое творилось на Кавказе. Британский консул в Батуми хвалил местный военно-полевой суд, который прекратил, как он писал в своём донесении, «вакханалию террора».
Помимо популярности на национальных окраинах, второй важной особенностью террора было активное участие в нем рабочих. Половина эсеровских терактов совершались промышленным пролетариатом. У большевиков и национальных социал-демократов (польских, литовских и латышских) их доля была еще выше. Она иногда доходила до 80–85%, как это было в отдельных регионах Кавказа (Баку и Батум) и Прибалтики (Рига). Рабочих было много и среди анархистов, и среди эсеров-максималистов.
Вместе с волнениями в деревне, которые в 1906 году достигают пика (более 1600), и поддержкой оппозиционной интеллигенцией террор становится отличительной особенностью Первой русской революции.
Как затих террор в дореволюционной России
Если считать только чиновников и высших сановников империи, то революционный террор унес жизни одного великого князя, одного премьера, двух губернаторов, 16 градоначальников, семерых генералов и адмиралов, 26 агентов полиции и провокаторов и около 4500 государственных служащих. Чисто силовыми методами с террором справиться было невозможно. Это хорошо видно на графике роста эсеровского терроризма: если в 1905–1907 годах партия совершает в среднем по 70–80 терактов, то уже в 1908 году это число падает до трёх, а в следующем году — до двух.
Некоторые ошибочно полагают, что террор подавили военно-полевые суды, которые Столыпин учредил сразу же после покушения на себя 25 августа 1906 года. Но их деятельность закончилась уже в апреле 1907 года. А акции прямого вооруженного действия подполья продолжался еще более полугода — кризис революционного террора в России наступил только в 1908 году.
Наибольший удар по террору нанесли несколько факторов.
Во-первых, любые мало-мальски крупные военные выступления, включая декабрьское восстание в Москве в 1905 году, которое считается кульминацией революции 1905 года, были безжалостно подавлены.
Во-вторых, верхушка национальных окраин боялась своих революционеров больше, чем Петербурга. Абсолютно лояльная Столыпину III Госдума заступилась за польских помещиков, земли которых премьер надумал было частично разделить между украинскими и белорусскими крестьянами. Остзейские бароны и привисленские паны были благодарны своим русским товарищам по дворянскому сословию, которые защитили их от буржуазных реформ.
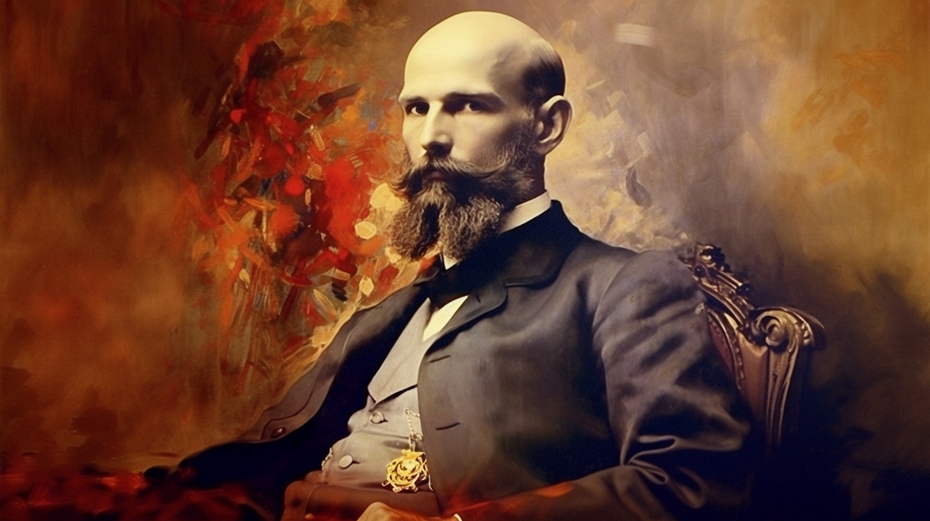 Петр Столыпин в интерпретации нейросети
Петр Столыпин в интерпретации нейросети
В-третьих, крестьянская реформа Петра Столыпина, которая в целом была противоречивой, затронула не более 10% крестьянских дворов, хотя и увеличила урожайность на 75–80%, что привело к росту благосостояния аграриев. Впервые было принято специальное рабочие законодательство. При Столыпине впервые начались серьезные вложения в начальное образование — были созданы около 50 тысяч школ.
В-четвертых, широкомасштабные реформы потребовали огромное количество госслужащих — хотя бы для земельного учета. В результате практически вся либеральная интеллигенция направилась «улучшать народную жизнь» на госслужбе. Тем более, что после третьеиюньского переворота 1907 года самая массовая либеральная партия страны, кадеты, которые были партийным большинством в I и II Госдумах, утратили свою парламентскую гегемонию. Таким образом, власти успешно канализировали демократическую оппозицию в пользу конституционно-монархического режима.
В-пятых, постепенный отход от жесткого соблюдения еврейской «черты оседлости» и более либеральное отношение к этно-конфессиональным меньшинствам привело к падению уровня терроризма по мере того, как вчерашние парни и девушки из гетто массово поступали в университеты или шли народными учителями в школы. Даже чистки университетов не смогли сдержать этот поток.
В-шестых, криминализация террора. Уже в 1908 году «главные террористы России» — партия эсеров — отмечали в своей печати, что «бесчисленные акты убийств, экспроприаций, деревенских поджогов, проявлений личной и групповой ненависти» свидетельствуют, что «стихийный терроризм бессилен на крупные дела». Этот метод борьбы, как говорили эсеры, «фатально направляется по линии наименьшего сопротивления, вырождаясь в экспроприаторство и на этой скользкой почве смешиваясь с чистокровным и беспринципным хулиганством».
Падение поддержки со стороны либералов, крестьян и национальных окраин приводило к оскудению партийных касс. Но чем больше революционные террористы занимались «экспроприациями», тем меньше у них оказывалось сторонников. Тем больше вчерашние политактивисты считали, что террор себя исчерпал и стал обычной криминальной деятельностью, которая недостойна революционера.
Конец революционному терроризму положило разоблачение главы Боевой организации эсеров Евно Азефа как полицейского провокатора. То, что это подтвердил лично премьер Петр Столыпин с трибуны Госдумы, сделало это разоблачение еще больше сокрушительным и значимым.
 Полиция России начала XX века в интерпретации нейросети
Полиция России начала XX века в интерпретации нейросети
По воспоминаниям абсолютно всех современников, общество после этого испытало нечто среднее между равнодушием и отвращением. Многим показалось, что между революционером и полицейским нет особой разницы. Оба готовы были ради своих целей идти по трупам, не считаясь ни с чем. И то, что тысячи жертв, как чиновников, так и гражданских, оказались всего лишь игрушками в руках провокаторов, которые выслуживались перед партией и властями, нанесло по революционному террору удар.
Последний резонансный акт был совершен в 1911 году — в киевском театре был застрелен премьер-министр Петр Столыпин. То, что его убийца Дмитрий Богров был и анархистом, и полицейским провокатором, привело к тому, что непопулярный ни среди левых, ни правых глава правительства искренне оплакивался широкой общественностью. А Богров даже после революции 1917 года не считался героической личностью.
Победившие после Октябрьской революции большевики вместо индивидуального террора прибегали к систематическому и массовому разгрому своих противников силами репрессивной машины. Что, как показала история, оказалось гораздо эффективней.
Читайте также:
Пролетарии всех местечек, соединяйтесь: история создания организации Бунд
Внутренняя армия революции: как большевики создали новый орган правопорядка
День, когда история остановилась, а потом рванула за горизонт
Долой сословия: как в России окончательно похоронили феодализм
Узнав о роспуске Думы, напились в хлам: как Столыпин боролся с парламентом









