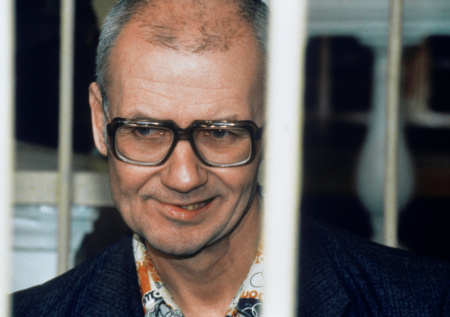Первые два года Второй мировой войны выдались для Латвии достаточно бурными. Власти страны явно не ожидали, что своими попытками гарантировать нейтралитет у Берлина вызовут сход политической лавины. Британия, Франция и СССР отреагировали на дипломатические маневры Риги крайне отрицательно. В результате небольшая прибалтийская страна пережила свержение ультраправой диктатуры Калриса Ульманиса, ввод советских войск, восстановление республиканской формы правления и присоединение к СССР в качестве новой республики.
Проблемы определения
В начале 1939 года перед фашистским диктатором Латвии Карлисом Ульманисом встала неприятная дилемма. Надо было формально решать, с кем ему по пути в предстоящей европейской войне. Собственно, вопрос этот был решен уже с середины 1930-х годов — Латвия полностью попала в зону влияния Третьего рейха. Но всё-таки требовалось соблюсти какой-то дипломатический протокол. И чтобы это всё не выглядело как союзные, тем более военные обязательства перед Берлином.
Дело облегчалось двумя моментами. Во-первых, диктатор Ульманис был ещё с начала 1920-х годов тесно связан с Германией. Немногочисленная оппозиция утверждала, что на процент отчислений от латвийских таможен поборник «Латвии для латышей» успел построить в рейхе поместье. Во-вторых, за налаживание дипломатических контактов взялся главный дипломат страны Вильгельм Мунтерс. Это был настолько пронемецкий кадр, что английские дипломаты в своей переписке ничтоже сумняшеся считали его наймитом германского МИД.
Со своей стороны в Берлине считали, что Прибалтика — это зона посконных германских интересов. Потому что, как писали нацистские газеты с подачи видного идеолога рейха, таллинца Альфреда Розенберга — «немцы там появились раньше любых латышей». После 1934 года, когда в Латвии появился свой фюрер Ульманис, рейх быстро вышвырнул Британию с пьедестала главного экономического партнёра страны. Немецкая промышленность перевооружила латвийскую армию. А в 1938–1939 годах сотрудничество между штабными офицерами двух воинств зашло настолько далеко, что о союзе между странами начали с неудовольствием поговаривать в Париже и Лондоне.
Рига все с ходу отрицала. В отличие от Берлина, который после Мюнхенского соглашения 1938 года закусил удила и откровенно начал строить планы окончательной изоляции Польши со стороны Прибалтики. Впрочем, для начала рейх наехал на Литву, потребовав назад Мемельский округ. Тамошние власти не сильно сопротивлялись. Британия и Франция самоустранились, хотя в 1920-х годах подписали соглашение с Литвой, гарантирующее её границы. Поняв, что защиты искать негде, Вильнюс сдался.
В Клайпеду, тогдашний Мемель, Адольф Гитлер приплыл на своем любимом карманном линкоре Шанргорст. Тут-то уже всем сторонним наблюдателям стало ясно, что рейх претендует на тотальное доминирование на Балтике.
В Латвии и Эстонии морской перформанс нацистов произвел гигантское впечатление. Власти обеих стран решили, что 1939 год — то самое время, когда надо срочно подтвердить нейтралитет у Берлине. А то, не ровен час, окажешься намотан на гусеницы германского танка.

Фюрер может спать спокойно
Переговоры между Латвией и Третьим рейхом шли в дружелюбной и теплой атмосфере. В апреле 1939 года несколько высокопоставленных военных и дипломатов получили приглашение на празднование 50-летия германского фюрера. Кроме ритуальных подарков и награждений, произошел зондаж на тему: не будут ли прибалтийские гости так любезны, чтобы учесть ряд нацистских пожеланий к возможному соглашению. Гости сразу же сказали «да». К вящему удовлетворению Берлина.
Во время переговоров, которые активно велись в мае — июне 1939 года, латвийская сторона откровенно заявила, что в настоящий момент все её силы направлены против СССР. И что она надеется на военную помощь рейха при любом случае. К тексту будущего соглашения был приложен секретный меморандум, который фактически превращал договор о нейтралитете в военный союз, направленный против Москвы.
Аналогичные переговоры велись в этот момент между Эстонией и рейхом. Между собой Таллин и Рига уже давно заключили военный союз, который был направлен против СССР. Соглашение с рейхом делали две прибалтийские страны его союзниками, что объективно не могло понравиться соседям — Польше и СССР.
В Лондоне советский посол Иван Майский особенно настойчиво окучивал латвийских дипломатов во время переговоров их стран с рейхом. Москва пыталась перехватить инициативу и заключить с прибалтийской республикой свой договор о границах и нейтралитете, где бы гарантами стали Британия, Франция и СССР. Латвия уклонялась от этого соглашения как могла.
Дипломаты делали задумчивый вид, заявляли советскому послу, что их никто не уполномочил вести такие судьбоносные для их страны переговоры, и строчили рапорты в Ригу.
Ульманис и компания, понимая, что с СССР все равно надо будет что-то делать, всё равно стремились подружиться с берлинским фюрером. Всё-таки идеологические и экономические связи довлели над Ригой целиком и абсолютно. 6 июня 1939 года между Латвией и Третьим рейхом был заключен пакт Мунтерса — Риббентропа.
 Договор о ненападении между Германией и Латвией
Договор о ненападении между Германией и Латвией
Реакция на соглашение в Париже и Лондоне была резко негативной. Британия направила Риге дипломатическую ноту, в которой жёстко подчеркнула, что пакт не является подтверждением нейтралитета. Более того, Лондон по сути толсто намекал, что с этого момента Латвию можно рассматривать как де-факто союзника рейха. Со всеми вытекающими из этой ситуации выводами. А что касается Москвы, то там это восприняли однозначно — нацисты создали военный плацдарм и оказались слишком близко к советским промышленным центрам, в частности — к Ленинграду.
В Лондоне и Париже понимали, что власти СССР и глава государства Иосиф Сталин теперь будут решать эту ситуацию самыми жёсткими мерами. Каких-то позывов спасать фактических союзников Гитлера в Британии и Франции не испытывали. Хотя радости от возможного укрепления СССР также не было, последующие действия прошли в политическом безмолвии с их стороны.
Укрепляя северный фланг
Как в Польше и Финляндии, действия СССР в Прибалтике преследовали одну цель — ликвидировать военный плацдарм для нападения на себя и по возможности максимально далеко на запад отодвинуть свою границу. В сентябре 1939 года Москва начала выводить военные подразделения численностью до 100 тысяч человек на границу Эстонии и Латвии. Советское руководство считало, что угроза получить дубинкой в глаз подействует отрезвляюще на фактических союзников рейха. Но при этом, как подчеркивали иностранные дипломаты и позднейшие историки, действительно пыталась договориться с Латвией и Эстонией.
С Ригой переговоры облегчались тем, что местное население мало того что было настроено жёстко антинемецки, как доносили британские дипломаты, латыши были настроены к СССР исключительно положительно. Во-первых, потому что нацистская демагогия про «мы немцы, мы вам, прибалтийским варварам, принесли цивилизацию» изрядно достала местное население. Многие помнили про засилье немецких помещиков до революции 1917 года. Многие были сторонниками большевиков. Что касается либералов и центристов, то они считали, что с помощью Москвы удастся свалить Ульманиса и опять вернуться к демократии.
Во-вторых, это все понимал и Ульманис. Поэтому, понимая, что противостоять СССР нет никакой возможности, а население не простит ему обращения к рейху, диктатор в принципе соглашался на предложения СССР. Более того, в военной среде наметился раскол. Герой войны за независимость Латвии генерал Янис Балодис откровенно считал, что надо делать ставку на союз с СССР. А немцев — выставить за дверь. Симпатии Балодиса к сотрудничеству с Москвой проявлялись настолько явно, что 5 апреля 1940 году, ещё в независимой Латвии, его сняли со всех постов — министра обороны, вице-президента и заместителя премьер-министра.
5 октября 1939 года СССР и Латвия подписали советско-латвийский договор о взаимопомощи. Около 30 тысяч советских военнослужащих зашли в республику. Никаких возражений со стороны местного населения не последовало.

Просоветские в силу разных причин настроения рядовых граждан Латвии резко расходились с откровенно прогерманскими настроениями местной верхушки. Однако в первое время СССР вообще не вмешивался во внутренние дела страны. Достаточно было того, что Москва получила военные базы в стране. Войскам была строго запрещено хотя бы как-то помогать местной оппозиции или проявлять свою политическую физиономию.
Но латвийская верхушка не удержалась. Победы рейха во Франции и затяжная война СССР с Финляндией привели к активизации антисоветской пропаганды в стране. Потом начался мелкий саботаж, а советская разведка стала подозревать местные власти в шпионаже в пользу немецких нацистов. Действия латвийских властей объяснялись просто. Они отчего-то решили, что 1939–1940-й годы — это то самое время, когда можно радостно усесться на двух стульях и доить две великие державы, у которых были на неё свои виды.
Тотальное покраснение
Падение Парижа 14 июня 1940 года фактически предопределило судьбу Латвии. Москва наблюдала за развитием военных действий на западном фронте, и результаты ей категорически не нравились. Было ясно, что Францию скоро могут вывести из игры, и тогда СССР остаётся с рейхом один на один. Опасения за прибалтийский фланг были слишком большие, чтобы сохранять статус-кво, так что Москва приготовилась действовать наверняка. И в тех условиях это означало одно — ввод войск.
16 июня СССР предъявляет Латвии ультиматум. Либо она пропускает советские войска, либо получает войну. Местная верхушка, понимая, что сопротивление бесполезно, а население настроено просоветски, соглашается со всеми предъявленными требованиями. РККА вводит танки.
И вот тут начинается нечто невообразимое. Местное население буквально воспринимает это как исторический шанс на восстановление демократического режима, который был уничтожен Ульманисом в 1934 году. Как вспоминал Марик Вольфсон, который в 1990 году будет рассказывать в латвийском Верховном совете про оккупацию, он буквально целовал советские танки. Население же встречало советские войска цветами. Что немедленно донесли до своих правительств британские и французские дипломаты.
Москва, что интересно, отнюдь не рассчитывала на что-то подобное. Нет, уничтожение диктатуры Ульманиса было в планах, но как-то далеко заходить по пути демократизации никто не хотел. Более того, зная о пронемецких симпатиях Вильгельма Мунтерса, советские резиденты вели с ним переговоры, чтобы эта компромиссная для Берлина фигура возглавила правительство. Но размах антидиктаторских демонстраций был настолько большим, что пришлось все переигрывать. Вместо Мунтерса, который бы устроил рейх, главой правительства 20 июня стал Аугуст Кирхенштейн.
Простым контролем над новыми властями СССР не удовлетворился. Надо было извлечь максимум из сложившейся ситуации. Тем более что в Латвии широко распространены просоветские настроения.
 Советские войска в Риге. 1940 год
Советские войска в Риге. 1940 год
«В нынешних обстоятельствах существует весьма реальная возможность, что в новом законодательном органе <...> будет создано значительное большинство, которое проголосует за немедленное вступление Латвии в Советский Союз на правах одной из его республик», — информирует своё правительство британский дипломат, находящийся в стране.
Новое правительство немедленно начинает ликвидацию всех пережитков диктаторского режима — закрываются общественные организации эпохи диктатуры, начинаются чистки и люстрации. Возможных оппонентов нового режима и деятелей прошлого режима советский НКВД уже организованно вывозит в ссылку в Сибирь и Поволжье.
Впрочем, советские органы подходили к наказанию дифференцировано. Генерала Балодиса сослали в Сызрань, где он содержался под домашним арестом. После 22 июня 1941 его с семьёй перевезли в Куйбышев (нынешняя Самара). В целом ему повезло, того же Ульманиса вначале сослали в Ставрополь, а после начала ВОВ посадили в тюрьму и выслали в Туркмению. Подхватив на этапе дизентерию, бывший диктатор скончался. Где находится его могила, неизвестно до сих пор.
Правительство Кирхенштейна решает провести выборы в заново организованный сейм. При Ульманисе вместо него существовали шесть сословных палат, которые как бы представляли при диктаторе всю латвийскую нацию.
В Британии ситуация оценивалась вполне положительно.
Новое правительство является по существу временным и его задачи (многие из которых уже выполнены) состоят: в восстановлении и видоизменении конституции <...>, в чистке государственного организма от элементов, ассоциируемых с прежним режимом; в амнистии политических заключенных; в обеспечении свободы печати, слова и организаций; в организации выборов, в которых латвийский народ свободно бы избрал своих представителей <...>. Это всецело политическая революция — и ничто иное — осуществлена со сравнительно небольшими издержками и жертвами, исключительно ограниченными первыми ее днями, — доносил 5 июля 1940 года в Лондон британский посланник.
СССР однако не решался положиться только на местные власти и вмешивался в организации выборов, зачастую определяя, какие списки кандидатов будут одобрены, а какие — отвергнуты. Что в целом было излишне.
Массовые демонстрации, насчитывающие многие тысячи участников, прошли вчера вечером, чтобы отпраздновать успех трудящихся Латвии... Избирательный блок трудового народа требует создания Советов в Латвии как в 14-й советской республике или союза с СССР, — сообщал в Лондон 15 июля 1940 года другой британский дипломат.
 Демонстрация в поддержку присоединения Латвии к СССР
Демонстрация в поддержку присоединения Латвии к СССР
Новоизбранный сейм, в котором полностью господствовал Блок трудового народа Латвии во главе с коммунистами, уже 21 июля обращается в СССР с просьбой присоединить страну к Союзу в качестве одной из советских республик. В тот момент новое правительство признает законным 19 стран. 5 августа 1940 года руководство СССР удовлетворяет обращение. Латвия становится 15-й республикой Союза.
Эйфория, царившая до этого момента в латвийском обществе, быстро испаряется, как только Москва начинает широкую «советизацию» республики. Проводимая силовыми методами и без какого-либо учета местных особенностей, она вначале отдалит от новой власти интеллигенцию и служащих, потом фермеров, включая даже часть тех, кто получит свои 10 гектаров после национализации земли и ликвидации крупного землевладения, а потом и часть городского населения, включая рабочих. В итоге во время ВОВ Латвия станет источником массового пополнения для нацистских коллаборантов. Гораздо более широкого, чем это было, если бы СССР пореже прибегал к широким и безадресным репрессиям.