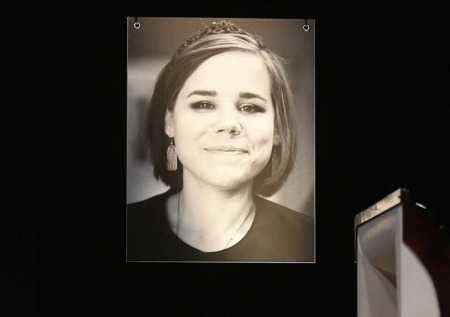Последние дни маленькая Эстония постоянно обращала на себя внимание и упорно пролезала в сводки новостей. 12 октября в Брянской и Московской областях были задержаны двое подозреваемых в терроризме, причем оба въехали в Россию (один из них с ПЗРК «Игла») через Эстонию. Напомним, что и предполагаемая убийца Дарьи Дугиной скрылась в Эстонии, после чего след ее там и пропал. Эстонский министр иностранных Урмас Рейнсалу единственный из коллег по всему миру поздравил власти Украины с успешно проведенным террористическим актом на Крымском мосту, а парламент страны пообещал признать Россию «государством — спонсором терроризма», также первым среди подобных заведений.
Впрочем, вызывающе резкой антироссийской политикой Эстония не отличается от своих соседей — Латвии и Литвы, которые настроены столь же русофобски. Удивительнее другое — откровенный антироссийский курс другой балтийской страны, Финляндии, в последние восемь месяцев. Премьер-министр страны Санна Марин допускает такие заявления и действия по отношению к России, которые ее предшественникам казались бы совершенно невероятными, начиная с заявки на вступление в НАТО. На этом фоне аналогичная заявка пятого балтийского государства — Швеции — кажется уже чем-то обыденным, хотя для нее это также является революционным и решительным разрывом с предшествующей историей двух столетий.
Стоит рассмотреть эту тенденцию не как следствие текущих событий на Украине, то есть не сиюминутно, а на фоне истории отношений прибалтийских стран с Россией.
Большая часть Прибалтики вошла в состав Российской империи в начале XVIII века по итогам Северной войны. Эти территории принадлежали России 200 лет до революции, а потом еще 50 лет при советской власти, с 1940 года. До 1917 года мысль о получении независимости эстонцами или латышами не приходила в голову даже самым ярым националистам — настолько это было безумным, как сумасшедшими были бы мечты о независимости мордвы или чувашей. Имелась великая империя, эти народы жили в губерниях на ее территории, никакой истории независимых государств у них не было. С самого начала контактов с Европой их предки стали крепостными немцев, шведов или датчан, управлявших их землями напрямую либо через ордена крестоносцев. Кроме того, сама Прибалтика не была этнически чистой территорией того или иного народа. В городах проживало значительное число немцев, составлявших до конца XIX века большинство в Риге и Ревеле (Таллине). В Литве основным населением городов, до 40% и более, были евреи, на втором месте — поляки.
 Празднование 25-летия восстановления советской власти в Эстонии
Празднование 25-летия восстановления советской власти в Эстонии
Если поляки и финны боролись за независимость или широкую автономию, то все требования прибалтийских политиков сводились к культурным и языковым правам — разрешению печати на родном языке, обучению на нем в начальной школе, что они и получили, и национальные литература и журналистика процветали.
Получение независимости Литвой, Латвией и Эстонией стало исключительно случайным результатом Первой мировой войны, когда после оккупации соответствующих территорий немцами и большевистского переворота в России законная власть на местах исчезла и ее подхватили местные националисты — единственная организованная и имеющаяся в наличии сила, к тому же с одобрения и при поддержке германских оккупантов.
Затем покровителей новоиспеченных свободных наций сменили англичане, которые были заинтересованы в ослаблении большевиков и в недопущении возрождения исторической России. В итоге красные под предводительством Ленина проиграли, будучи вынужденными бросить основные свои силы против Колчака и Деникина, и признали «буржуазные» республики.
Но весь межвоенный период 1920–1940 годов, какими бы антикоммунистическими во внутренней политике ни были прибалтийские страны, они строго соблюдали осторожность в отношении СССР, не смели допускать никаких враждебных высказываний, не вступали ни в какие антисоветские блоки, вели себя крайне осмотрительно и почтительно. Ничего подобного сегодняшней «вольнице» нельзя было и помыслить, подчеркнем — в отношении сталинского Советского Союза, не нынешней капиталистической России.
Для Финляндии геополитическим уроком стали две войны с СССР — 1939–1940 и 1941–1944 годов. Главный вывод, который сделали в Хельсинки, — имея в соседях огромную страну, надо вести себя разумно и осторожно, понимать реалии географии, истории и политики, в которых находится Финляндия. Выдающийся политик Урхо Кекконен, на протяжении долгих послевоенных лет возглавлявший правительство, а после служивший президентом 26 лет, очень хорошо понимал эти естественные ограничения. При нем Финляндия процветала экономически, наслаждалась демократическим устройством общества и при этом не провоцировала своего великого соседа, никогда не принимала участия в разного рода антисоветских авантюрах, напротив, работала на сближение Востока и Запада, проведя в 1975 году в Хельсинки знаменитое совещание и положив начало процессу сближения сторон.
В период перестройки именно РСФСР во главе с Борисом Ельциным и русские демократы внесли основной вклад в получение независимости странами Прибалтики. Когда Горбачев поручил навести порядок в Вильнюсе в январе 1991-го, Ельцин немедленно прилетел в Таллин и подписал там с лидерами прибалтийских республик договор, фактически признававший их независимость со стороны РСФСР. В августе того же года, после провала ГКЧП, в ультимативном порядке потребовал от Горбачева признать независимость республик Прибалтики, словно у России на тот момент это была самая большая проблема. Мало того, Ельцин приказал выдать Латвии на расправу рижского омоновца Сергея Парфенова. И он никогда не ставил никаких условий относительно прав и гарантий для русскоязычного населения Прибалтики.
 Борис Ельцин
Борис Ельцин
Казалось бы — после таких поступков и действий прибалты должны были пожизненно быть благодарными России. Но нет, вместо выражения признательности русскому народу из поколения в поколение первым ответным шагом стало... лишение политических прав русскоязычных Латвии и Эстонии через непредоставление им гражданства. Притом что многие из них голосовали на выборах за местных демократов и жили в Прибалтике уже в третьем поколении.
Как отметил в беседе со мной видный эстонский интеллектуал Калле Каспер, эстонцы считали великодушные действия России само собой разумеющимися и не заслуживающими какой-либо благодарности или ответных действий. А лишение гражданских и политических прав русских (этот шаг Каспер осуждает) они полагали своим внутренним делом и отмахнулись от вялых попыток Европы хоть как-то облегчить положение русскоязычных, ставших жертвами апартеидной политики.
Парадокс — все 90-е годы, когда в Москве у власти находился Ельцин, отношения РФ со странами Прибалтики были прохладными, несмотря на все его односторонние уступки и жесты (и это со стороны государства, в десятки раз большего всей Прибалтики по численности населения, не говоря уже о территории). В Риге и Таллине продолжали выдвигать все новые и новые претензии. Там всячески поддерживали власти Ичкерии в борьбе против России, называли в честь Дудаева улицы и площади, устанавливали ему памятные доски. Но даже тогда нельзя было представить, чтобы эстонский министр открыто рукоплескал террористическим актам, как это происходит сегодня.
Это стало возможным благодаря вступлению Прибалтики в 2004 году в НАТО. Только под крылом этого альянса прибалты осмелели до той степени, которую демонстрируют сегодня. С позиций сегодняшнего дня видно, что допущение со стороны России присоединения прибалтийских стран к НАТО стало крупнейшей геополитической ошибкой. Этому нужно было противодействовать любой ценой. Понятно, что основные решения были приняты еще при Ельцине, до Путина, но все равно, процесс вступления можно было попытаться притормозить.
Когда говорят, что НАТО — исключительно оборонительный блок и членство в нем соседей не несет никаких угроз для России, то это лукавство. Включение крошечной Эстонии в НАТО, например, привело к тому, что это государство может спокойно, не опасаясь последствий для себя, проводить самый ярый антироcсийский курс, помогать врагам России. Вот почему в Кремле так борются с расширением НАТО — если Эстония позволяет себе открыто и на официальном уровне приветствовать теракты против РФ, то как поведет себя в таком случае Украина?
Что касается Финляндии, то следует учитывать, что за 30 лет, прошедшие после развала СССР, в ней полностью сменилось поколение политиков. Сегодня у власти такие, как Санна Марин, — 1985 года рождения. Она не может помнить Советского Союза. У нее начисто отсутствует чувство даже не опасности, а благоразумия. Она привыкла воспринимать Россию как нечто несущественное, как слабую страну, с которой можно не считаться. Марин живет вне истории, она ее не знает.
Вывод простой — в политике не бывает благодарности, а благоразумие возникает только тогда, когда имеется угроза применения силы. Мудрость государственного деятеля заключается в том, чтобы не допускать создания враждебных коалиций вдоль границ своего государства. Эстония может вести себя так, поскольку опирается на мощь всего НАТО. Соответственно, задача России — не позволять окружить себя.