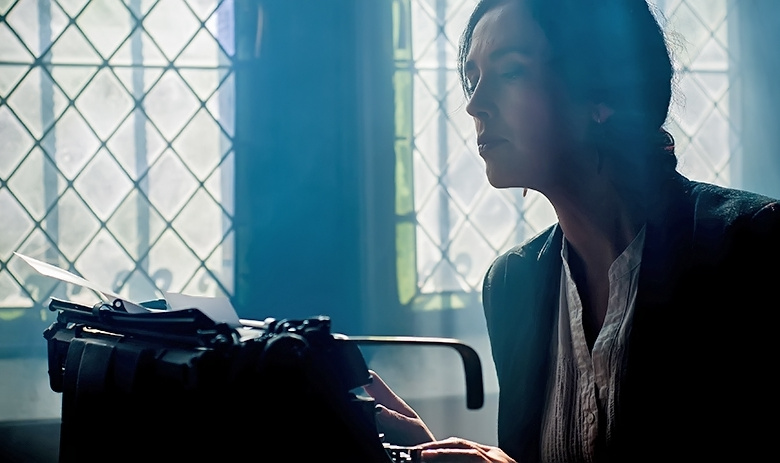Россия всегда была читающей страной, книга занимает в нашей культуре особое место. Но сегодня, когда все читают и пишут в Интернете, всё стало выглядеть по-другому. Может ли добиться успеха начинающий писатель? На что он живёт? Как выживают издательства? Эти вопросы мы задали генеральному директору издательства «Время» Борису Пастернаку.
— Сперва надо определиться с тем, что такое сегодняшний писательский успех. Каждый пишущий молодой человек, начинающий писатель, прочитав то, что я собираюсь сказать, подумает: «Это лукавые отговорки. Успех — это когда ты проснулся знаменитым». Так вот, такого, чтобы ты проснулся знаменитым, сейчас не бывает. Этому мы обязаны разным причинам, и главная из них — та, что система коммуникаций сейчас чрезвычайно развита. Каждый, кто хоть что-то из себя представляет, умеет связать два слова и обладает вызывающим у окружающих интерес душевным запасом, сидит в социальных сетях. Если в том, что он пишет, хоть что-то есть, его заметят. Написанное им начнёт ходить в рукописи... Но сейчас, кстати говоря, потерялось само понятие рукописи.

Рукопись, публикация — сейчас всё это настолько условно! Ты вывесил свой текст в Facebook — вот тебе и публикация. Пять тысяч человек на это откликнулись и сказали «вау!», а нам пойди, продай пять тысяч экземпляров. То, что каждый пишущий человек хочет издать именно бумажную книжку, можно рассматривать как некий атавизм, а можно — как неразгаданную тайну книги. Второе кажется мне более верным. Я думаю, что держать в руках свою книгу для писателя лучше и важнее, чем мелькать в Сети.
Сейчас у нас выходит серия классики, русской и переводной. И я каждый день читаю писательские биографии, сопроводительные тексты и материалы. Есть две расхожие версии успеха. Человек сидел-сидел всю жизнь и писал «в стол», потом помер, написанное им достали из стола, прочли и сказали «ах!». Он оказался гением. Вторая же версия состоит в том, что человек проснулся знаменитостью, напечатав первую вещь. Сегодня мы не сталкиваемся ни с тем, ни с другим. Сейчас всё идёт постепенно.

И я не видел, чтобы человек рос от книги к книге. Совершенно состоявшиеся люди приносят нам готовые вещи.
— Значит, сегодняшний молодой писатель не может превратиться в бренд — как это было с Улицкой и со ставшим Акуниным Чхартишвили?
— Время от времени кто-то из них превращается в бренд, значит, такое возможно. Но и у Акунина не всё было просто, и у Улицкой. Акунин три года не продавался. А потом читатели распробовали его книги, к тому же вышло три классных рецензии, появилось письмо Григория Ревзина в «Коммерсанте»: «Смотрите, какая книга!» А он лидер мнений, его круг кинулся читать, оказалось, что это здорово. Да и у Улицкой всё тоже постепенно развивалось, насколько я помню.

— Чем нынешняя писательская слава отличается от того, что было раньше?
— Мандельштам говорил: «Слово — это пучок, и смысл из него торчит в разные стороны». Слава Улицкой — одно, слава Устиновой или Донцовой — совершенно другое. Поэтому мы говорим «успех», а не «слава». К тому же мне кажется, что у этого слова сегодня есть очень сильный коммерческий привкус. Глуховский очень успешный писатель, который сделал себе имя на двух-трёх книжках. На «Метро», собственно говоря. В тех кругах, в которых «Метро» активнее всего читалось, первым делом назывался тираж и миллионы рублей, и это считалось важным признаком успеха. Что не лишено смысла, потому что коммерческий успех тоже очень важен.
Тут я могу рассказать одну историю. Лет десять тому назад один замечательный питерский издатель написал, что из каждых ста выпущенных книг успеха добиваются одна-две («Успех — это когда книга попадает в постоянную допечатку и приносит реальные деньги, тираж за тиражом»). Я постоянно примерял это на наше издательство, и оказалось, что он прав.
Из 100 наших книжек одна-две выдерживают 10–11–15 тиражей и приносят прибыль. 8–10 потребуют одной-двух допечаток. Они тоже принесут деньги, но небольшие, и мы это считаем успехом. 15–20 выйдут в ноль, а все остальные 70 процентов принесут убытки. Можно ли считать эти 70 книжек из 100 неуспешными? Чёрт его знает. Там наверняка можно найти совершенно классные вещи, не прочитанные сегодня. Через несколько лет, если опять их издать, среди них могут выскочить одна-две, которые тоже попадут в постоянную ротацию. Это очень сильно зависит от состояния аудитории, от её уровня понимания.

— От чего же в таком случае зависит экономика издательств?
— Я вчера разговаривал с одной французской издательницей, которая сказала, что в её стране даже самые крупные издательства самостоятельно не выживают и им дает дотации Институт книги. А у нас дотаций нет, выживают те, кто больше крутится. Выручает то, что попадает в допечатки. Если ты лучше угадываешь и у тебя из 100 книжек туда попадает не две, а три-четыре, то ты уже в порядке. Всё зависит от того, какой у тебя круг авторов, и от твоего нюха на талант — или хотя бы на успех. Насколько интересный проект ты придумал, какие у тебя отношения с торговлей, как ты с пиаром работаешь... Есть ли у тебя ресурсы, которые позволяют извлечь деньги.
«Раскрутка» — лукавое слово. Писатель всем известен, он во всех соцсетях прошёл, все ему «лайки» поставили. А денег нет. И что, раскрутка это или нет? Ну да, имя человек делает. Если к этому имени у него появится ещё и сильная книжка, то всё в порядке. А если нет, то всё пропало.
— Субсидирует ли издательства государство?
— Нет. Мы выпускаем в год примерно 150 книжек, и из них получаем гранты от Министерства культуры или Роспечати на четыре. Такова сегодняшняя квота.
— Может ли сейчас писатель жить на гонорары?
— Могут в стране человек 10. Они на них, я думаю, и живут. Остальные работают, занимаются литературной поденщиной, где-то кому-то доклад написал, в пиар-агентстве кто-то, другой в газете служит. Кто как. Но все что-то зарабатывают. Как Пушкин в своё время или Тютчев.
— Говорят, что электронная книга лишила заработка писателей и убивает бумажную книгу...
— Лично мне как издателю электронная книга не мешает, а помогает. Потому что при малых тиражах бумажных книг — сейчас это примерно 5 тысяч экземпляров — электронная книга, при её повсеместном распространении, не отбивает охоту купить свою любимую бумажную книгу. В то же время она создаёт очень серьёзный ареал известности. По сути дела, это дополнительная реклама. Каждую свою бумажную книжку мы немедленно закладываем в магазин в электронном виде. И мы ещё ни разу не столкнулись с ситуацией, чтобы она перешибла нам бумажную торговлю. А поднять продажи она может.
Книги сегодня дорогие, решиться на покупку непросто. Я заглянул в электронную книжку, она мне понравилась, я её купил. Но мне захотелось подарить её друзьям, а принести в подарок флешку неудобно. Другое дело — принести в подарок бумажную книгу...
Книга снова стала лучшим подарком, и меня это радует.